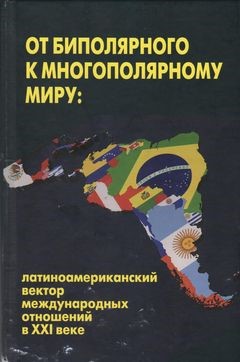- Код статьи
- S0044748X0006414-4-1
- DOI
- 10.31857/S0044748X0006414-4
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск № 10
- Страницы
- 94-107
- Аннотация
Глобальные изменения в конце ХХ — начале ХХI в. свидетельствуют о формировании полицентричного мира, в котором все более важную роль играют государства, находившиеся ранее на мировой периферии. В фундаментальном коллективном исследовании, подготовленном петербургскими историками, рассматривается роль Латинской Америки в контексте глобальных процессов. В поле зрения авторов — политические сдвиги в регионе, территориальные споры, вооруженные конфликты и другие вызовы региональной безопасности. Особое внимание уделяется интеграционным процессам, взаимоотношениям латиноамериканских государств с внерегиональными субъектами мировой политики и роли региона в глобальных политических процессах. Дается также характеристика внешней политики отдельных государств региона и их позиции по ключевым проблемам глобальной повестки.
- Ключевые слова
- международные отношения, глобализация, территориальные споры, вооруженные конфликты, безопасность, многополярный мир, дипломатия
- Дата публикации
- 26.09.2019
- Год выхода
- 2019
- Всего подписок
- 90
- Всего просмотров
- 3808
Место Латинской Америки в мире всегда было в центре внимания отечественных обществоведов. Стремительно меняющаяся реальность налагала заметный отпечаток на происходящие процессы и на их интерпретацию. В течение десятилетий международные отношения были одним из приоритетных научных направлений Института Латинской Америки РАН (ИЛА РАН). Внешнеполитический курс в контексте холодной войны и освобождения от империалистической эксплуатации нашел отражение в коллективной работе «Внешняя политика стран Латинской Америки после Второй мировой войны», изданной в середине 1970-х годов [1]. Через 13 лет появился двухтомник «Латинская Америка в международных отношениях», который, несмотря на «ветер перестройки», тоже оказался весьма идеологизированным [2]. Д-р полит.наук, проф. Борис Федорович Мартынов в учебном пособии для студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России обстоятельно изложил историю международных отношений региона на протяжении ХХ и начала нынешнего века, преодолев распространенный в то время подход к государствам региона как к вторичным субъектам мировой политики, и предпринял довольно успешную попытку рассмотреть континент как самостоятельный цивилизационный ареал, объединенный общими экономическими, политическими и культурно-информационными проблемами, исторически стремящийся к наиболее полному раскрытию своего внешнеполитического потенциала [3]. Почти одновременно было издано комплексное коллективное исследование ИЛА РАН, отражающее отношения Латинской Америки и США, особенности развития региональных интеграционных процессов, вызовы международного терроризма, проблемы формирования «трансатлантического моста», деятельность стран региона на афро-азиатском направлении и российский вектор их внешней политики [4]. Новые геополитические вызовы нашли отражение в учебных пособиях д-ра полит. наук, проф. Владимира Петровича Сударева [5,6]. Серию работ московской школы латиноамериканистики по этой тематике на данный момент завершает коллективная монография ИЛА РАН, в которой анализируются новейшие тенденции политического и экономического развития региона в изменившихся глобальных условиях и особое внимание уделяется факторам внешнего порядка и диверсификации международных связей [7].
Тем не менее обширная историография внешней политики региона далеко не в полной мере отражает нынешний латиноамериканский вектор международных отношений. В этой связи внимание специалистов может привлечь комплексное коллективное исследование, подготовленное петербургской школой латиноамериканистики под руководством д-ра ист. наук, проф. РАН Виктора Лазаревича Хейфеца [8]. Авторы монографии исходят из утверждения, что современные международные отношения представляют собой сложную и многофакторную систему, в которой происходит постепенное перераспределение ролей, а существовавший ранее биполярный миропорядок (и сменивший его после дезинтеграции СССР однополярный. — З.И.) постепенно уступает место полицентричному. В новой расстановке политических сил особое место принадлежит Латинской Америке. Повышение роли региона в мировой политике объясняется его заметной долей в мировой экономике (7% от мирового ВВП), высоким уровнем культурной и лингвистической общности, богатым опытом работы в ООН и других международных организациях, активной вовлеченностью в интеграционные процессы и существенным вкладом в развитие диалога по линии «Юг — Юг»[8, сc. 8-9].
Авторы монографии, не полемизируя со своими московскими коллегами, пытаются взглянуть на глобальные процессы несколько под другим углом, категорически выступая против доминировавшего долгие годы подхода к государствам региона как к «вторичным» субъектам мировой политики, неспособным самостоятельно формулировать внешнеполитические цели и добиваться их осуществления. Особый акцент делается на особенностях современного мультилатерализма в контексте формирования многополярного мира и роли региона в конструировании новой мировой архитектуры. Не отрицая существенных страновых различий, авторы работы в первую очередь исходят из общности региона как самостоятельного цивилизационного ареала, с общими экономическими, политическими и культурно-духовными проблемами, исторически стремящегося к наиболее полному раскрытию своего внешнеполитического потенциала.
В первой главе предполагалось дать анализ социально-экономической динамики и современной политической панорамы, однако на практике этим сюжетам посвящен только первый параграф. Канд. ист. наук Антон Сергеевич Андреев и Виктор Лазаревич Хейфец солидаризируются с российскими и зарубежными исследователями, признающими, что традиционное деление на «правых» и «левых» не в полной мере отражает политические процессы в регионе, в то же время для удобства успешно пользуются этими категориями. Нельзя не согласиться с тем, что усиление позиций правоцентристских сил невозможно расценивать как простой возврат в неолиберальное (в экономическом плане) и авторитарное (в политической сфере) прошлое: новые правые по своей политической сути являются в большинстве своем довольно умеренными и всячески дистанцируются как от связи с правыми политическими силами времен военных диктатур, так и от классического неолиберализма 1990-х годов. Более того, справедливо утверждают авторы, авторитарные тенденции характерны скорее для левых режимов, харизматические лидеры которых де-факто отказались от сменяемости власти и проводят в жизнь идеи, которые трудно ассоциировать с левым движением [8, сc. 31, 32].
В условиях «правого поворота», подчеркивают А.С.Андреев и В.Л.Хей-фец, Латинская Америка оказывается зажатой между США, Китаем и Европейским союзом, при этом уже подтвердился курс на сближение региона с Соединенными Штатами, что несет определенную угрозу самостоятельной внешней политике и может вызвать «эрозию» континента как одного из столпов многополярного мира. В то же время, учитывая прагматизм политиков, авторы не склонны преувеличивать этот риск: расширение экономических контактов между Вашингтоном и его латиноамериканскими соседями уже не ведет к автоматической переориентации на внешнеполитическую линию госдепартамента США, более того, собственный экономический потенциал региона стал основой независимой политики. Сближение с Соединенными Штатами, по мнению авторов, вряд ли серьезно отразится на отношениях с Китаем — одним из главных инвесторов региональных экономик, однако «правый поворот» в случае смены власти может поставить под угрозу реализацию инвестиционных и структурных проектов России в отдельных странах, поскольку договоры заключались с предыдущими правительствами [8, c. 38].
Проанализировав курс ряда государств на активизацию отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в том числе с Китаем, Японией, Индией и Южной Кореей, магистры Михаил Михайлович Борисов и Дарья Антоновна Правдюк приходят к выводу, что эта тенденция способствует включению региона в глобальные политические процессы, поскольку межрегиональные торгово-инвестиционные проекты требуют развития политического диалога, изменения роли межнациональных институтов и международных организаций. Авторы отмечают высокую степень вовлеченности в мировую экономику Южноамериканского общего рынка (Mercado Común del Sur, Mercosur) и Тихоокеанского альянса (Alianza del Pacífico, АР) и тот факт, что политические и экономические изменения в регионе и неблагоприятная международная обстановка приводят к постепенному сближению этих объединений. Неоднозначная оценка дается участию Мексики, Перу и Чили в Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP). Хотя эти страны уже имеют разветвленную сеть двусторонних соглашений о свободной торговле, а производимые ими товары и сырье облагаются преимущественно невысокими тарифами, участие в мегаблоке расширяет доступ к рынкам АТР, придает серьезный импульс диверсификации производства и структуры экспорта, экономика становится более устойчивой к разного рода кризисам. Напротив, определенные риски связаны с имплементацией норм ТРР, постепенной отменой предыдущих, более выгодных договоренностей; неясными остаются и аспекты трудового права. Выход США из ТРР, по мнению исследователей, не повлечет за собой критических последствий, поскольку каждая их трех стран ранее заключила с Вашингтоном двусторонние соглашения о свободной торговле. Возможно, в тихоокеанском блоке найдется место и для Колумбии, Панамы и Коста-Рики, которые также хотели бы присоединиться к ТРР [8, сc. 47, 55].
Магистры Софья Николаевна Добронравина и Д.А.Правдюк лаконично излагают суть территориальных споров между государствами региона, некоторые из которых, до этого находившиеся в тлеющем состоянии, перешли в активную фазу (проблема выхода Боливии к морю, претензии Венесуэлы на гайянский район Эссекибо, территориальные споры Никарагуа с Гондурасом, Коста-Рикой и Колумбией, конфликт между Аргентиной и Великобританией по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов и т.д.) [9, сc. 346-398]. Авторы показывают, что все большее число территориальных споров и их затяжной характер вынудили конфликтующие стороны искать посредничество других стран, которое окончательно уступило место арбитражу международных организаций. На региональном уровне это Организация американских государств (ОАГ), а на глобальном — Международный суд ООН. Исследователи доказывают, что территориальные споры оказывают серьезное дестабилизирующее действие на международные отношения в регионе, хотя и не приводят к военным столкновениям, зачастую используются в качестве «разменной монеты» в политической игре как инструмент давления на оппонента, им легко придать окраску «вопроса государственной важности». Территориальные претензии приводят к ухудшению двусторонних отношений, любой из них способен нанести ощутимый урон процессу объединения региона в единый политический организм [8, сc. 82-83].
Канд. ист. наук Ольга Владимировна Андрианова проанализировала причины и последствия внутренних вооруженных конфликтов, в ряде случаев переходящих в фазу гражданской войны. После Кубинской революции 1959 г. периферийное положение латиноамериканских стран на международной арене, недостаточная эффективность местных экономических структур, нерешенный аграрный вопрос, стремительный демографический рост на фоне произвола и репрессий диктаторских режимов привели к активизации выступавших за обновление общества повстанческих сил, на последнем этапе холодной войны военное напряжение достигло небывалых высот. Хотя Латинская Америка имеет самую низкую (после Европы) интенсивность межгосударственных столкновений, в регионе до сих пор наблюдается самый высокий уровень насилия в мире. Не прошли мимо внимания конфликтолога и процессы мирного урегулирования в Центральной Америки и Колумбии, трудности, с которыми прошлось сталкиваться во время переговоров, а также роль гражданского общества соответствующих стран и авторитетных международных посредников. Нельзя не согласиться и с утверждением, что в нынешнем веке политическое насилие трансформировалось в криминальное, вооруженные столкновения менее интенсивны, преимущественно деидеологизированы и имеют отчетливую криминальную природу. Очевидно и то, что для консолидации мирного процесса необходим комплексный подход: наряду с серьезными структурными изменениями крайне важно провести глубокие реформы судебной системы, усилить антикоррупционную борьбу, искоренить бедность и заняться индейским вопросом. Поскольку решение этих задач потребует значительных усилий, этот процесс обещает быть долгим. Справедлива и высокая оценка латиноамериканского опыта урегулирования конфликтов, который может быть полезным для других регионов мира [8, сc. 84, 97-99].
Не менее интересны и сюжеты, касающиеся вызовов региональной безопасности, написанные О.В.Андриановой и канд. ист. наук Лилией Вячеславовной Хадорич. Как отмечают эти авторы, в течение долгого времени безопасность определялась исключительно как готовность государства противостоять вооруженной агрессии, однако во второй половине ХХ в. эту концепцию стали трактовать расширительно, включая проблемы экономического, экологического, социального, культурного, технологического развития, т.е. в теоретическом и в практическом смысле постепенно смещается фокус от государствоцентризма к антропоцентризму [8, сc. 101]. Данный подход нашел отражение, в частности, в Декларации безопасности Америк, принятой в 2003 г. Организацией американских государств (ОАГ). На континентальном уровне признается трансграничность последствий нетрадиционных вызовов, таких как наркотрафик или миграция, что требует коллективного участия в их преодолении [10].
Смещение фокуса угроз безопасности привело к переосмыслению роли вооруженных сил в регионе. Некоторые страны не имеют регулярной армии, в других вооруженные силы выступают гарантами конституции, используются для оказания гуманитарной помощи или в случае стихийных бедствий, для противодействия организованной преступности и наркотрафику, в пенитенциарной системе, т.е. наделяются полицейскими функциями. Изучив многочисленные национальные источники, О.В.Андрианова и Л.В.Хадорич составили авторскую таблицу, отражающую приоритеты нетрадиционных вызовов региональной безопасности в Карибском бассейне, Центральной Америке, андских странах и государствах Южного конуса [8, сc.107-108]. Сравнив ситуацию в различных регионах мира, авторы пришли к выводу, что в отличие от Европы, где происходит размывание государственного суверенитета и делегирование части функций национального государства наднациональным структурам, в Латинской Америке пропорционально росту глобализационных тенденций стало придаваться важное значение и суверенитету, а в качестве наиболее эффективной формы координации регионального сотрудничества предпочтение отдается саммитам [8, c. 109]. Несмотря на общность подходов, политическая и экономическая неоднородность региона обуславливает мозаичность региональной системы безопасности, при этом отсутствуют механизмы координации усилий между различными объединениями. Намерение латиноамериканских государств (по крайней мере, некоторых. — З.И.) дистанцироваться от США и исключить северного соседа из региональной архитектуры может снизить эффективность региональной безопасности [8, c. 118].
Вторая глава научного исследования посвящена проблемам региональной и субрегиональной интеграции. Эта тематика довольно подробно отражена в российской латиноамериканистике, однако и в этой области петербургские коллеги смогли сказать свое слово. Как отмечает В.Л.Хейфец, во время «левого поворота» появились новые интеграционные проекты, направленные как на политическое сотрудничество, так и на развитие торгово-инвестиционных партнерских связей. Еще в конце прошлого века, отмечает исследователь, предпринималась попытка найти новую, более эффективную модель, отличающуюся от «открытого регионализма» и не ориентированную на США и панамериканскую систему обеспечения безопасности. В начале нынешнего столетия вектор этих процессов определялся необходимостью перехода от жесткой неолиберальной модели к устойчивому развитию, не основанному на примате макроэкономических показателей. Новая модель должна была соответствовать культурно-историческим и мировоззренческим традициям региона и ориентироваться на решение актуальных проблем; латиноамериканский регион старался преодолеть зависимость от США и становился одним из полюсов формирующегося многополярного мира. Кроме того, интеграционные процессы позволяли странам региона «нарастить мускулы» и сформировать единую позицию в отношениях с внерегиональными субъектами международных отношений. В то же время сосуществование многочисленных объединений привело к тому, что каждая страна входила в несколько блоков, отличительные черты которых начали размываться и деформироваться, сами объединения превращались в бюрократические структуры, не оказывавшие какого-либо воздействия на мировые политические процессы. Ситуация еще больше осложнилась в последние годы в связи с мировыми процессами «ресуверенизации», застоем в деле достижения конкретных результатов, вторым дыханием «открытого регионализма» и политическими изменениями в ряде латиноамериканских государств [8, сc.120, 122].
При анализе региональных объединений Л.В.Хадорич и В.Л.Хейфец совершенно справедливо выносят на первый план не столько успехи региональных объединений, сколько вызовы, стоящие перед ними. Так, в рамках Союза южноамериканских наций (Unión de Naciones Suramericanas, Unasur) так и не осуществилась идея создания Банка Юга, объединение не смогло продвинуться в деле реализации совместной макроэкономической политики и ликвидации асимметрии между странами блока, не воплотилось в жизнь и большинство инфраструктурных проектов, постоянно проявлялись глубокие противоречия между странами-участницами, усилилась политико-идеологическая дифференциация правительств, не позволившая выработать согласованную позицию по поводу ключевых вопросов, в первую очередь, относительно венесуэльского кризиса. Более двух лет объединение не может избрать генерального секретаря и согласовать кандидатуры на другие вакантные должности, мощнейшим негативным фактором становится и эрозия регионального лидерства.
На фоне политической поляризации невозможно достижение консенсуса и в рядах Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), отчетливо проявляется спад регионального интереса к участию в политических форумах. СЕLAC пока не удавалось выработать общую позицию по основным международным проблемам, равно как и транслировать латиноамериканские интересы на глобальный уровень [8, c. 147]. Состоятельность CELAC, считают авторы, будет зависеть от возможности объединить или максимально сблизить всю палитру существующих в регионе тенденций. Ответ на этот вопрос остается открытым, однако, на наш взгляд, при нынешней расстановке политических сил он скорее отрицателен.
В условиях кризиса и фактического распада региональных объединений важным инструментом поддержания диалога остается ОАГ. Как считают авторы рецензируемой монографии, определение ОАГ как «министерства колоний США» справедливо лишь отчасти. С одной стороны, недовольство латиноамериканского сообщества действиями организации часто является следствием американской политики доминирования, а стратегия партнерства остается невостребованной в североамериканской внешнеполитической элите. В то же время, подчеркивается в монографии, многие инициативы США находили поддержку у латиноамериканских партнеров, которым было удобнее действовать в русле внешнеполитических приоритетов Вашингтона, чем взять на себя лидерство и добиться континентального единства. Ограничивает эффективность межгосударственного сотрудничества и абсолютизированный латиноамериканскими государствами принцип невмешательства: многие инициативы не были реализованы зачастую не по воле США, а из-за того, что страны-участницы медлили с принятием решений или предпочли отказаться от конкретных действий. ОАГ неоднократно служила интересам латиноамериканского «реактивного мультилатерализма»: государства региона «мягко уравновешивали» попытки США осуществлять гегемонию, а также защищали свою автономию в рамках данного политического форума. В любом случае, несмотря на все существующие противоречия, экономические и политические обстоятельства делают отказ от ОАГ объективно невыгодным для стран Западного полушария. Признанием актуальности и значимости ОАГ можно считать также присутствие 70 постоянных внерегиональных наблюдателей. Хотя, как справедливо отмечают авторы, ОАГ нуждается в серьезном обновлении, но это не мешает ей вести непрерывную работу по внедрению политических и социальных структурных изменений в жизнь народов Западного полушария [8, сc. 154, 156-157].
А.С.Андреев, М.М.Борисов, С.Н.Добронравина и Д.А.Правдюк обстоятельно изучили историю развития и современное состояние субрегиональных объединений, выделили основные формы, механизмы и особенности субрегиональной интеграции. Как показывают итоги исследования, до недавнего времени Mercosur, созданный по инициативе левоцентристских правительств, располагал серьезными политическими и экономическими амбициями и претендовал на роль центра силы, однако ситуация изменилась из-за целого ряда преимущественно политических факторов (приостановка членства Парагвая после импичмента Фернандо Луго, смещение Дилмы Руссефф и смена модели развития в Бразилии, «правый поворот» в Аргентине, исключение Венесуэлы из объединения). Как упоминалось выше, в условиях нарастания американского протекционизма и неопределенного будущего ТРР наметилось сближение между Mercosur и AP и активизировались переговоры о торговых соглашениях с внерегиональными экономиками. Перспективы объединения, подчеркивается в монографии, зависят от преодоления наметившегося институционального и политического кризиса, связанного с изменениями в приоритетах стран-участниц. Хотя от Аргентины и Бразилии исходит мощный импульс, направленный на расширение и диверсификацию внерегиональных связей, требуется серьезно пересмотреть стратегию дальнейшего развития блока и принять взвешенное решение на основе консенсуса всех стран-участниц и с учетом их национальных интересов [8, сc. 168-169].
Напротив, отмечается в работе, АР не имеет жесткой привязки к объемам внутриблоковой или внешней торговли либо к уровню институционализации, единодушный курс на либерализацию торговли и активное освоение рынков АТР помогает альянсу увеличивать свою конкурентоспособность в мировой экономике, в нем, как правило, отсутствует и политическая составляющая. Дальнейшее развитие отношений с АТР соответствует как экономическим целям всего объединения, так и отдельным политическим задачам его стран-участниц. Среди проблемных моментов авторы отмечают отсутствие эффективных институтов и рыхлость структур альянса. Тем не менее АР может стать дополнительной платформой диалога Латинской Америки с ЕС, динамичное развитие АР благоприятно сказывается на имидже этого блока и на его практическом потенциале, что становится привлекательным для возможных участников [8, сc. 210-211]. (На наш взгляд, определенные вопросы могут возникнуть в связи со сменой правительства Мексики и корректировкой модели развития этого государства, заметно отличающейся от остальных участников альянса.)
Можно согласиться и с положительной оценкой Центральноамериканской интеграционной системы (Sistema de la Integración Centroamericana, SICA), которая охватывает большинство возможных направлений интеграции, включает разнообразные организационные структуры, осуществляет множество региональных программ и отдельных проектов. Вместе с тем подчеркивается, что объединение является позитивным примером многоуровневой интеграции стран со сравнительно низким уровнем экономического развития и широким спектром политических и социальных проблем, решение которых бесспорно идет на пользу региону, стабилизирует обстановку в Центральной Америке и улучшает ее имидж на международной арене [8, сc. 186-187].
Не без основания более осторожная оценка дается состоянию и перспективам Боливарианского альянса для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA), который, в отличие от других интеграционных объединений, базируется на общих политических ценностях и на ярко выраженной идеологической проблематике. Авторы подробно анализируют основные направления экономического сотрудничества стран-участниц, однако отмечают, что главным направлением дискурса стала безоговорочная поддержка членов блока, особенно Венесуэлы и Кубы, резко негативная реакция на политику США, наличие консолидированной позиции по внеблоковым проблемам, в том числе и непосредственно не затрагивающим страны-участницы. Подводя итоги деятельности ALBA, авторы указывают на отсутствие цельной концепции во внерегиональной политике, архаичность курса на борьбу с империализмом, зависимость от идеологической гомогенности входящих в его состав стран, что несет в себе серьезную угрозу будущему объединения в условиях частых политических «разворотов» латиноамериканских государств [8, c. 182].
Третья глава посвящена субъектам политики, находящимся вне региона и вне Западного полушария. Я.В.Лексютина, Л.В.Хадорич и В.Л.Хейфец обстоятельно проанализировали политику США в Латинской Америке, уделив особое внимание сходству и различиям в подходах администраций Барака Обамы и Дональда Трампа. Как отмечается в монографии, с начала ХХI в. Вашингтон столкнулся с новыми вызовами, связанными с ослаблением зависимости региона от США. Причиной этого стали «левый поворот», повлекший за собой отказ от неолиберальной модели и «Вашингтонского консенсуса» в целом, формирование новых интеграционных объединений без американского участия, полный отказ государств региона от панамериканского проекта Зоны свободной торговли Америк (Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA), активизацию отношений с другими государствами и регионами мира, в том числе и с неугодными для США режимами. Одновременно сокращалась и доля северного соседа во внешней торговле региона из-за высокой активности Китая [8, сc. 212-221].
С приходом к власти Б.Обамы, который заявлял об отсутствии «старших и младших партнеров», в регионе появились большие ожидания, однако определенный прорыв связан только с частичной нормализацией американо-кубинских отношений. Одновременно президент США надеялся создать благоприятные условия для сотрудничества в двустороннем формате, в том числе и с леворадикальными режимами, а также на многосторонней основе в рамках ОАГ и рассчитывал на сдерживание возросшей активности Китая, России и Ирана в Латинской Америке. Приход к власти в странах Южного конуса правоцентристских правительств, поддержавших стремление Обамы к формированию ТРР и выступавших за расширение внешнеэкономических связей с США, позволили им обрести «второе дыхание» на латиноамериканском направлении [8, c. 231].
Республиканец Д.Трамп, взявший курс на протекционизм и на воплощение в жизнь концепции «Америка прежде всего», подверг резкой критике латиноамериканскую политику предыдущей администрации. В качестве доказательства авторы приводят ужесточение миграционной политики, пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), санкции против Венесуэлы с целью отстранения Николаса Мадуро от власти, резкое сокращение американской помощи, отказ от TPP, пересмотр целого ряда двусторонних соглашений, отмену торговых преференций и т.д.
Тесная историческая, культурная и лингвистическая связь Латинской Америки с европейским континентом способствует активному развитию отношений между этими регионами. При анализе данного вектора межрегиональных связей О.В.Андрианова и Л.В.Хадорич соглашаются с канд. экон. наук Виолеттой Макариосовной Тайар, утверждающей, что, хотя Латинская Америка и не стала приоритетным направлением внешней политики ЕС, Брюссель сформировал активную стратегию развития межрегиональных отношений, основанную на дифференцированном подходе [11, c. 80]. В отличие от США Евросоюз предлагает Латинской Америке в качестве основы сотрудничества цельную, структурированную платформу, позволяющую осуществлять широкий политический диалог, при котором главным элементом является проблематика развития [8, c. 264]. Проанализировав большой фактический материал, касающийся как отдельных стран, так и региональных объединений, авторы этого параграфа приходят к выводу, что, поддерживая интеграционные процессы в Латинской Америке, ЕС стремится способствовать политической стабильности и социально-политическому развитию региона, укрепляя тем самым один из будущих полюсов формирующегося многополярного мира, в котором роль Европы во многом будет зависеть от ее союзников на международной арене. В свою очередь страны Латинской Америки нуждаются в ресурсах и инструментах, которые способствовали бы росту производительности и повышению конкурентоспособности, необходимых для ускорения региональных производственных процессов и эффективной интеграции в глобальные производственные цепочки [8, c. 283].
Рассмотрев сотрудничество Латинской Америки и АТР, О.В.Андрианова и В.Л.Хейфец приходят к выводу, что оба региона вышли на новый уровень взаимодействия, характеризующийся созданием устойчивого политического и экономического диалога, разнообразных форматов коммуникации, стремительным расширением торговли и оживлением инвестиционной активности. Основным направлением является торгово-экономическое сотрудничество, в то время как стратегические, военно-политические, идеологические и иные мотивы не играют сколько-нибудь значимой роли. Отмечается также, что межрегиональная кооперация осуществляется преимущественно с четырьмя наиболее развитыми странами (Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией), а в содержательном плане эта модель скорее напоминает «Юг — Север», нежели «Юг — Юг». Нельзя не согласиться и с утверждением, что за все возрастающими объемами межрегиональной торговли и капиталовложений АТР стоит стремительно укрепляющаяся зависимость латиноамериканских стран от Китая [8, c. 262].
Особо хотелось бы отметить объективный и обстоятельный анализ динамики отношений между Латинской Америкой и Россией. Как справедливо отмечает В.Л.Хейфец, в 90-е годы прошлого века ввиду серьезных экономических проблем и резко усилившейся ориентации на США и европейские страны Россия почти утратила интерес к латиноамериканскому региону. Коммерческие сделки реализовывались преимущественно частными структурами и не носили системного характера. В конце десятилетия Россия активизировала свою политику в регионе, положительная динамика продолжилась и в первые два десятилетия нынешнего века. Хотя заметно вырос товарооборот и увеличились российские инвестиции, серьезные изменения связаны не столько с экономическими возможностями, сколько с геополитическими подходами в борьбе за многополярный мир. В то же время, несмотря на рост поставок продовольственных товаров из стран региона, воспользовавшихся введением европейских санкций, товарооборот латиноамериканских государств с Россией остается весьма скромным и несопоставим с аналогичным показателем Китая и тем более США. Тем не менее, отмечается в монографии, Латинская Америка стала единственным обширным и важным в географическом, экономическом и политическом плане регионом в дальнем зарубежье, предоставляющим Кремлю возможности для реализации различных задач внешнеполитической повестки. После нового старта холодной войны Москва располагает налаженными контактами со многими региональными объединениями и имеет статус наблюдателя в ОАГ и CELAC [8, сc. 285, 287, 290, 323]. Почти со всеми странами действует безвизовый режим, расширились деловые контакты и возможности для российского бизнеса, Россия налаживает контакты с русской диаспорой и с иностранными выпускниками советских и российских вузов. Как заметил В.Л.Хейфец, современная российская политика в регионе не сводится к безоговорочной поддержке той или иной партии или того или иного руководителя, а скорее занята пропагандой «традиционных ценностей», что не всегда вызывает энтузиазм у левых. Москве удалось диверсифицировать связи, подключив к ним Русскую православную церковь и канал Russia Тoday. Автор приходит к выводу, что на фоне противодействия Вашингтону на мировой арене Латинская Америка представляется для этого весьма удобным регионом [8, 325]. Нельзя не согласиться с этим экспертом в том, что в условиях «правого поворота» возникает фактор риска при реализации уже инициированных совместных проектов и в деле обеспечения поддержки Москвы по ключевым международным вопросам [8, c. 480].
Четвертая глава рецензируемой работы посвящена роли и месту Латинской Америки в глобальных политических процессах. Д-р филол. наук Николай Александрович Добронравин и В.Л.Хейфец, привлекая богатый исторический материал, рассмотрели популярную в Латинской Америке концепцию глобального Юга, который все заметнее распадается на полупериферийные (Мексика, Аргентина и Бразилия) и периферийные страны (остальные государства региона). Новый характер внешним связям Латинской Америки с другими регионами глобального Юга придал BRIC/BRICS (Brazil, Russia, India, China/Brazil, Russia, India, China, South Africa). Проанализировав достижения и сложности и не идеализируя это объединение, Н.А.Добронравин и В.Л.Хейфец приходят к выводу, что сам факт существования BRICS вызывает постоянный интерес к нему со стороны государств региона, не вошедших в его состав, в то же время связи между отдельными латиноамериканскими странами и членами BRICS развиваются в основном на двусторонней основе. Международные региональные организации, в которые входят страны Латинской Америки, также проявляют интерес к отношениям с отдельными участниками BRICS, особенно с Китаем и Россией, но этот интерес не трансформируется в сколько-нибудь заметные связи. Авторы предполагают, что в перспективе ситуация может измениться лишь в том случае, если участники BRICS будут заметнее координировать свои усилия на международной арене и оказывать официальную помощь странам с доходами ниже среднего уровня [8, c. 357].
Л.В.Хадорич сосредоточила свое внимание на проблемах интеграции тех или иных стран региона в ведущие мировые политические и экономические структуры, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), Большая двадцатка (G-20), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация стран-экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC), Группу 77, Движение неприсоединения и т.д., что подтверждает высокую степень включенности государств региона в глобальную архитектуру. В период «тектонических сдвигов» мирового порядка концепция открытого регионализма дает свои плоды. Автор предполагает, что, хотя голоса латиноамериканских государств пока не звучат в унисон из-за отсутствия консолидирующего стратегического политического проекта, в ближайшем будущем они смогут выступать единым фронтом по самым важным направлениям международной повестки. Степень же влияния на глобальные процессы во многом будет зависеть от способности стран региона решать структурные проблемы, связанные с коррупцией, финансовой нестабильностью, институциональной слабостью государств, неразвитостью региональной инфраструктуры [8, c. 374].
Заключительный параграф главы посвящен деятельности государств региона в ООН. А.С.Андреев, Д.А.Правдюк и Л.В.Хадорич анализируют позиции стран Латинской Америки и Карибского бассейна относительно реформирования ООН вообще и Совета безопасности в частности, вклад Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL) в разработку стратегии экономического и социального развития региона, деятельность совместных миссий ООН и ОАГ, сотрудничество между ООН, Unasur и CELAC в рамках борьбы с терроризмом и угрозами национальному суверенитету, в урегулировании внутренних вооруженных и межгосударственных конфликтов, в миротворческих проектах и по целому ряду международных проблем. Определяя ООН как центральный элемент системы международных отношений, авторы параграфа отмечают, что работа в этой международной организации не является для стран региона основным направлением дипломатической активности, а позиции государств региона по главным вопросам глобальной повестки едины в своей основе, но различны в деталях, часто страны региона голосуют за разные, в том числе и взаимоисключающие, документы и резолюции. В то же время, по мнению авторов, активизация деятельности региона в ООН в последнее десятилетие и демонстрация особой или автономной позиции может оцениваться как очередной шаг в деле строительства многополярного мира [8, c. 404].
Объем данной рецензии не позволяет рассмотреть крайне интересные сюжеты, посвященные дипломатии отдельных стран и изложенные в пятой главе монографии. Для иллюстрации региональных тенденций в качестве case studies были выбраны экономически развитые страны, входящие в G-20, и леворадикальные режимы, привлекающие внимание всего мирового сообщества. Роль Бразилии в глобальном мире проанализирована А.С.Андреевым, положение Мексики между США и Латинской Америкой — В.Л.Хейфецом, эволюция внешнеполитического вектора Аргентины — А.С.Андреевым, внешняя политика Кубы — В.Л.Хейфецом, позиции Венесуэлы на международной арене — канд. ист. наук Дмитрием Михайловичем Розенталем и В.Л.Хейфецом.
Давая самую высокую оценку проделанной работе, хотелось бы высказать и некоторые замечания и пожелания. Из-за того, что в подготовке книги принимали участие как маститые ученые, так и магистры, делающих первые шаги в большой науке, не все главы написаны на одинаковом уровне. Монография включает обширный фактический материал и объективный и беспристрастный анализ ситуации, однако, с точки зрения политологии, в целом исследованию не хватает теоретических аспектов. Не всегда логично выстроена структура издания, некоторые сюжеты (например, тихоокеанский вектор внешней политики) рассматриваются в различных главах, что приводит к неизбежным повторам. При анализе субрегиональных интеграционных объединений вне поля зрения оказалось Андское сообщество наций (Comunidad Andina de Naciones, CAN), хотя рассмотрено гораздо менее значимое, лишь периодически возникающее URUPABOL (Уругвай, Парагвай и Боливия).
На наш взгляд, противостояние в Центральной Америке можно характеризовать как гражданскую войну, в то же время соотношение сил и разница в социальной базе конфликтующих сторон не позволяют применять это определение к внутреннему вооруженному конфликту в Колумбии, несмотря на его продолжительность и большое количество жертв.
Можно согласиться с мнением авторов о том, что пересмотр межамериканских торговых отношений открывает дополнительные возможности для внерегиональных сил, а также для потенциальных лидеров, однако спорно, что в политике Д.Трампа популизм в значительной мере уступает место прагматизму. Напротив, американский президент, провозглашая популистские лозунги, действует исключительно прагматически в интересах своей страны, игнорируя при этом интересы партнеров. В условиях «правого поворота» представляется спорным и утверждение о том, что осталось мало правительств, готовых работать с администрацией США на американских условиях. На деле все правые президенты после победы на выборах спешат подтвердить свою лояльность северному соседу и выражают надежду на укрепление двусторонних отношений. (Самый яркий пример — визит в Вашингтон президента Бразилии Жаира Болсонару в марте 2019 г.)
Авторский коллектив абсолютно верно наметил основные векторы латиноамериканской политики, направленные на формирование многополярного мира, в результате абсолютное большинство сделанных выводов не вызывает сомнений. В то же время ряд утверждений кажутся излишне оптимистичными, некоторые авторы, выражающие свою сопричастность к проблемам континента, иногда выдают желаемое за действительное. Так, в работе отмечается, что, несмотря на все сложности, на деле никто не планирует окончательно покинуть Unasur, определенный потенциал которого пока сохраняется. Как показали последние события, после приостановки членства шести государств в блоке Колумбия и Эквадор заявили об окончательном выходе из объединения, а на повестку дня поставлен вопрос о создании новой ассоциации без участия леворадикальных правительств. Резкое обострение системного кризиса в Венесуэле, несколько пошатнувшиеся позиции президента Боливии Эво Моралеса, вступление Никарагуа в зону политической турбулентности и выход Эквадора из ALBA наводят на мысль о необходимости более пессимистического прогноза и относительно этого объединения.
Так, на наш взгляд, заключительный вывод о том, что Латинская Америка сделала еще один шаг к реализации мечты Симона Боливара об общеконтинентальном единстве, дополнив ее позиционированием в качестве влиятельного нового центра силы, был справедлив до последнего времени, когда большинство исследователей, в том числе и автор данной рецензии, характеризовали регион как единство в многообразии. Произошедший во время последнего электорального цикла «правый дрейф», резко усиливший политическую поляризацию, и обострение системного кризиса в Венесуэле привели к тому, что страны континента стали придерживаться взаимоисключающих взглядов по ключевым вопросам, усилились давние межгосударственные конфликты, практически распались Unasur и CELAC, а ОАГ не в состоянии выработать единой позиции. В то же время хотелось бы быть историческим оптимистом и надеяться, что эти негативные процессы носят временный характер, а в среднесрочной перспективе прогнозы авторов оправдаются.
Указанные замечания носят частный характер и не влияют на самое благоприятное впечатление от этого фундаментального исследования, которое станет хорошим подарком не только латиноамериканистам, но и всем преподавателям-международникам и их многочисленным студентам. Хочется надеется, что работа будет переиздана более внушительным тиражом и займет достойное место в историографии международных отношений.
Библиография
- 1. Внешняя политика стран Латинской Америки после Второй мировой войны. Отв. ред. Б. И. Гвоздарев. М., Наука, 1975, 540 с.
- 2. Латинская Америка в международных отношениях. Отв. ред. А. Н. Глинкин. М., Наука, 1988, т. 1, 285 с., т. 2, 384 с.
- 3. Мартынов Б. Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (ХХ — начало ХХI века). М., Навона, 2008, 424 c.
- 4. Латинская Америка в современной мировой политике. Отв. ред. В. М. Давыдов. М.,Наука, 2009, 581 c.
- 5. Сударев В. П. Геополитика в Западном полушарии в начале ХХI века. М., МГИМО-Университет, 2012, 128 c.
- 6. Сударев В. П. Латинская Америка: новые геополитические вызовы. М.: МГИМО-Университет, 2015, 292 c.
- 7. Латинская Америка на переломе глобальных и региональных трендов. Отв. ред. В. П. Сударев и Л. Н. Симонова. М., ИЛА РАН, 2017, 204 с.
- 8. От биполярного к мультиполярному миру: латиноамериканский вектор международных отношений в ХХI веке. Отв. ред. В. Л. Хейфец. М., Политическая энциклопедия, 2019, 494 с.
- 9. Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые возможности. Отв. ред. З. В. Ивановский. М., ИЛА РАН, 2017, 452 c.
- 10. Organization of American States. Special Conference on Security. Declaration on Security in the Americas. Mexico, 2003, 13 p.
- 11. Тайар В.М. Евросоюз — Латинская Америка: контуры межрегионального партнерства в ХХI веке. Современная Европа, 2015, № 2, сс. 72-84.