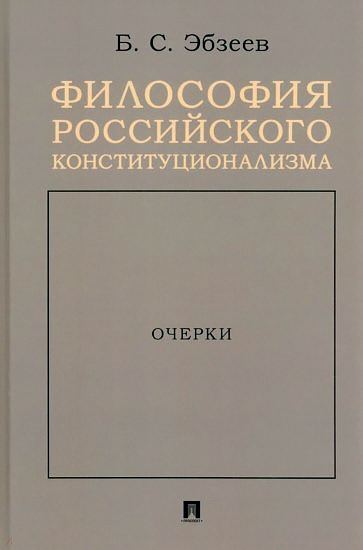- PII
- S102694520028161-8-1
- DOI
- 10.31857/S102694520028161-8
- Publication type
- Review
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume / Issue 10
- Pages
- 186-190
- Abstract
The review highlights the main topics and problems of the new monograph by B.S. Ebzeev on the constitutional process in Russia, which has been taking place over the past 30 years. The work of the famous lawyer and statesman provides a dogmatic, historical, political-ideological, sociological and philosophical analysis of the problems of Russian statehood in connection with the Constitution of the Russian Federation of 1993. The book proves that the Constitution of the Russian Federation, with all its shortcomings, made it possible to prevent civil confrontation, get out of the most severe political crisis and preserve Russia as a sovereign state.
- Keywords
- B.S. Ebzeev, Constitution of the Russian Federation, statehood of Russia, Constitutional Law, state sovereignty, territorial integrity, rights and freedoms of citizens
- Date of publication
- 27.11.2023
- Number of purchasers
- 11
- Views
- 306
Вышла в свет очередная книга известного юриста и государственного деятеля Б.С. Эбзеева. Работа представляет собой собрание статей, написанных в разные годы, но связанных тематически. Фактически перед нами научная монография, приуроченная к 30-летию Конституции Российской Федерации и содержащая концептуальные подходы в ее освещении. Автор – государственник и патриот России, остро переживающий тревогу за страну, за ее распад в 1991 г. и трудности становления новой российской государственности. Уже на первой странице читаем: в 1991 г. «наш народ пережил историческую травму крушения СССР. Поиски свободы, равенства и справедливости, толкнувшие Россию на дорогу Октября 1917 г., спустя семь с небольшим десятилетий потерпели неудачу, ставшую роковой для советской государственности. Великое государство, отравленное ядом государственного нигилизма, усиленного бесталанностью собственного руководства и властолюбием людей, оказавшихся у кормила власти в России, пало.
Фатальное значение для судьбы СССР имело принятие 12 июня 1990 г. Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Именно она явилась прологом к разрушению СССР. В РСФСР была учреждена должность президента, и 12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента РСФСР. 25 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил официальное название Российского государства – Российская Федерация (Россия). В этот же день Президент СССР объявил о сложении полномочий. Этому предшествовало и причинно обусловливало подписание 8 декабря 1991 г. руководителями РСФСР, Украины и Белоруссии так называемого Беловежского соглашения о прекращении существования СССР в качестве “субъекта международного права и геополитической реальности”.
Дезинтеграционные тенденции распространились на Россию. Этому способствовали деградация экономики, утрата нравственных ориентиров обществом и государственного смысла обманутым народом, который всегда выступал главной скрепой отечественной государственности на ее долгом историческом пути» (с. 5).
Далее автор делает заключение, являющееся лейтмотивом всей книги: Конституция РФ 1993 г. при всех ее недостатках позволила преодолеть тяжелейший политический кризис, гражданское противостояние, создать каркас новой демократической государственности и тем самым сохранить Россию как суверенное государство (с. 11, 12).
Название монографии симптоматично – «Философия российского конституционализма», что уже давно не редкость для юристов-отраслевиков, предлагающих освещать проблемы своей науки через призму философии. Следует констатировать, что у них это далеко не всегда получается, философия так и остается только в названии, подлинного философского осмысления не происходит. Но здесь радует хотя бы сам факт признания высокого статуса философии: обращаться к ней считается у юристов престижно, прослыть юристом-философом респектабельно. Кстати, данная мотивация – одна из причин повышенного интереса к философии права со стороны государственных служащих и чиновников от науки высокого уровня.
Строго говоря, дистанция между отраслевой юридической наукой и философией огромная. Перед отраслевой юридической наукой стоят три главные задачи: 1) разработка юридической догматики; 2) анализ правотворческой и правоприменительной практики; 3) подготовка практических и научных работников. Основной предмет изучения отраслевой юридической науки – позитивное право и связанная с ним юридическая догма. Главный метод этой науки – догматический, назначение которого – формализация социального поведения и социальных отношений, формализация и систематизация сложившегося позитивного права. Направленность отраслевой юридической науки по преимуществу практическая, прикладная. Ее важнейшие задача и цель – разработать и предложить государству позитивное право, способное эффективно регулировать общественные отношения. Если она к этому неспособна, ее ценность стремится к нулю, а сама она утрачивает свойства юридической науки, перестает таковой быть. Поскольку доминирующий метод в отраслевой юридической науке – догматический, а ее задача – создать эффективное право, истиной в ней считается непротиворечивость норм и конструкций. Догматическая юриспруденция не имеет собственной познавательной инициативы, ее инициатива всегда мотивируется властью. Именно государственная власть ставит перед юристами-отраслевиками задачу разработать догму, отвечающую интересам страны. Понятно, что существо этих интересов определяется властью, а не юристами. Так, русские дореволюционные юристы по требованию большевиков создали новые советские кодексы, а позднесоветские юристы подготовили уже либеральные (буржуазные) кодексы. И ничего постыдного здесь нет: юристы-отраслевики просто делали свое дело, т.е. обслуживали власть, используя свои профессиональные знания. Точно так, как это делали инженеры, военные или врачи. Отраслевая юридическая наука строго функциональна, ценностные и политические ориентиры ее затрагивают лишь косвенно.
Философия, напротив, представляет собой такую отрасль знания, где мировоззренческий, ценностный компонент играет главную роль. Философия – это и есть рационализация ценностных установок, направленная на обретение смысла познаваемых явлений (мироздания, природы, общества, сознания, человека, государства, права). Поскольку ценностные ориентиры у людей (классов и других социальных групп) разные, создаваемые философией смысловые модели также различаются вплоть до антагонистических противоречий. Внесение философии (т.е. смысловых моделей) в юридическую догматику губительно для последней. Философия разрушает мир юридической логики, внося в него хаос и разлад. Посредством философии в юридическую догму проникают ценностные и политико-идеологические установки, разрушающие целостность юридической ткани. Кстати, среди юристов-отраслевиков распространено заблуждение, что методологической основой догматической юриспруденции выступает философия позитивизма. Этого, конечно, нет. В основе отраслевой юридической науки (так же, как и теории юридического позитивизма) лежит не философия, а формальная логика, отцом которой является Аристотель.
Все приведенные выше рассуждения в полной мере распространяются и на науку конституционного (государственного) права, но с существенными оговорками. Главный компонент науки конституционного права, конечно, догматический. Задача этой науки в том, чтобы создать юридическую догматику, способную придать государству, его органам и всему государственному устройству страны легальную формализованность, а функционирование государственного аппарата и правопорядка в целом сделать бесперебойным и эффективным. Без догматического компонента конституционно-правовая наука перестает таковой быть, она превращается либо в политическую публицистику (политическую пропаганду), либо в обществоведческую дисциплину без внятного предмета и четких границ.
Вместе с тем конституционное право со времен своего возникновения (эпоха буржуазных революций) всегда стояло рядом с политикой. Не зря немецкие и русские юристы конца XIX – начала XX в. не считали публичное право (прежде всего государственное) собственно правом. Если защиту норм, например, гражданского права государственная власть готова гарантировать, то в случае нарушения конституционного законодательства самой властью последняя становится судьей в собственном деле. Власть, нарушившую конституцию, привлекать к ответственности некому. Сама власть решает, нарушать ей закон или нет, восстанавливать нарушенное ею право или нет, привлекать к ответственности высших должностных лиц государства или нет. Нормы конституции, утверждали немецкие и русские юристы, есть по большей части политические и моральные декларации власти о своих намерениях, которые она соблюдает или не соблюдает в зависимости от своей выгоды и политической целесообразности.
В отличие от других отраслевых наук в конституционном праве политико-идеологические и ценностные установки прочно заняли свое место. При определении общественного строя, статусе человека и гражданина, характера политического (государственного) режима, полномочий и порядка формирования парламента, при апелляции к народу в том или ином аспекте национальные конституции прямо или косвенно, завуалировано или открыто заявляют о своих политико-идеологических и ценностных ориентирах. Конституции могут заявлять, например, о характере своей демократии (либеральной, социалистической, фашистской и т.п.), политического режима (демократического, социалистического и т.п.), собственности (частной или общенародной) и т.д. Так, модель либеральной (буржуазной) демократии, принятой в качестве базовой в странах Запада и в России, есть не что иное, как красивая мифологема, основанная на метафизических (т.е. берущихся без доказательств, на веру) постулатах о народе как источнике власти, о правах человека как врожденных и неотчуждаемых, об ограничении власти правом как политико-юридической и моральной норме и т.п. Добросовестный социологический анализ без труда разбивает все эти априорные установки: народ (массы, как говорили диктаторы XX в.) всегда и везде – не субъект политики, а объект политического манипулирования, и власть сама решает, быть ей правовой или нет, предоставлять и гарантировать права гражданам или нет.
Таким образом, анализ конституционных актов не только в догматическом, но также в политико-идеологическом и ценностном (философском) аспектах – вещь обычная, что мы в полной мере наблюдаем в книге Б.С. Эбзеева. В отличие от других, не очень удачных попыток сочетать догматический, исторический, политико-идеологический, социологический и философский анализ конституционных актов, автор монографии демонстрирует блестящие способности к такому методологическому синтезу. На страницах монографии разворачивается впечатляющая картина принятия Конституции РФ 1993 г., ее развития и функционирования, а с ней вместе мы видим новейшую историю нашей страны как цепь драматических, а порой и трагических событий. Книга «берет за живое» потому, что автор четко обозначает и отстаивает свою позицию государственника, борющегося за целостность России, ее стабильное и поступательное развитие в деле укрепления институтов власти и гражданского общества. Особый интерес к произведению вызывается также тем, что Б.С. Эбзеев не просто сторонний наблюдатель процессов, связанных с принятием и функционированием Конституции РФ, он их непосредственный участник. Мы можем из первых рук узнать, что думает о конституционном процессе последних 30 лет первоклассный юрист и государственный деятель Б.С. Эбзеев.
В работе убедительно показывается связь теории государственного суверенитета с политикой и интересами правящих классов. В течение столетий, утверждает автор, государственный суверенитет, единый, неотчуждаемый и неделимый, составляет основополагающее начало государственного развития народов. В основе теории суверенитета лежит догмат единой воли народа, который выступает в качестве особой юридической личности (юридической фикции, добавим мы), которая стоит над всеми властями и обладает первоначальным и неотчуждаемым верховенством, является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти. Неделимость народного суверенитета предопределяет неделимость государственного суверенитета. Вместе с тем тезис о неделимости суверенитета отодвигается в сторону, если того требуют политические интересы. В истории, утверждает автор, такое происходило дважды. Первый раз в эпоху Великой Французской революции, когда надо было поделить суверенитет между монархом и парламентом. Второй раз теория делимости суверенитета служила обоснованию конструкции немецкого союзного государства во главе с Пруссией в 1871 г. В известной мере теория делимости суверенитета была воспринята Конституцией СССР 1936 г., где провозглашался ограниченный суверенитет союзных республик. В настоящее время теория делимости суверенитета послужила обоснованием образования Европейского Союза (с. 221, 222).
Теория делимости суверенитета, продолжает Б.С. Эбзеев, и основывавшаяся на ней конституционная практика «базировалась на смешении понятий государственной власти и суверенитета и отождествлении суверенитета как свойства государственной власти с опасными для единства и целостности государства представлениями о суверенитете государственного органа» (с. 222). Давно установлено, утверждает автор, что делится не суверенитет, а полномочия между государственными органами. Конституция РФ твердо стоит на позиции неделимости государственного суверенитета. Признание неделимости государственного суверенитета отвечает коренным интересам России, государственность которой «остается главным движителем культуры и прогресса нашей Родины и непременным условием свободы и благополучия человека» (с. 228).
Б.С. Эбзеев – человек демократических убеждений, но смотрит на демократию (в том числе на демократию в России) реалистически, понимая ее обусловленность различными факторами (культурно-историческими, экономическими, политическими). По его мнению, в науке конституционного права складывается тенденция, предлагающая «интерпретировать понятие демократии в России в отрыве от Конституции, а ее саму – сквозь призму априорных теоретических представлений о демократии» (с. 274). Последняя советская Конституция РСФСР 1978 г. (с учетом многочисленных поправок конца 80-х – начала 90-х годов) как раз и пала жертвой разрушительной критики, опиравшейся на оторванную от жизни теорию либеральной демократии. Автор убежден, что предложенная Конституцией РФ модель демократического устройства создана с учетом конкретно-исторических условий страны и только с этих позиций следует анализировать и Конституцию РФ, и демократию в России. Подчеркивается также, что демократия в России в ее западноевропейском варианте стала результатом не естественно-исторической эволюции, а социального выбора, не подготовленного историческим развитием общества. «Именно поэтому она не способна немедленно оправдать возлагавшиеся на нее надежды» (с. 275). При этом автор выражает уверенность, что у России в обозримом будущем нет альтернативы демократии. Игнорирование данной реальности стало одной из причин гибели советского строя.
Б.С. Эбзеев был Президентом Карачаево-Черкесской Республики, т.е. занимался государственным управлением в регионе, где национальный вопрос традиционно является одним из самых острых. Именно в национальных республиках проверяется способность и готовность их руководителей быть не на словах, а на деле патриотами России, бороться за ее единство и против этнического сепаратизма. В этой связи особый интерес представляют его политические и юридические взгляды на национально-государственное строительство России. Свой подход Б.С. Эбзеев формулирует предельно точно, ясно и открыто. Он предлагает рассматривать принцип самоопределения наций и национально-территориальное устройство России в первую очередь с позиции исторической и политической и только во вторую – с юридической.
В историко-политическом контексте автор анализирует советский федерализм. Как он полагает, главная идея, которую Ленин вложил в советский федерализм, состоит не в отделении народов России и образовании ими самостоятельных государств, а в свободном определении народами России путей своего социального развития (с. 255, 256). Принцип свободного выхода из СССР сыграл большую роль в его развале. «Народы бывшей Российской Империи активно “оснащались” не только государственными структурами, но и территориями. Причем далеко не всегда исторически принадлежавшими им. Украина, например, только после образования СССР и благодаря России получила Донецк, Луганск, Львов и всю Западную Украину, Харьков, Херсон, Одессу. В 1954 г. Украине из состава РСФСР был решением не уполномоченного на это действовавшей в тот период Конституцией РСФСР Президиума Верховного Совета РСФСР передан Крым. Разумеется, при этом никто из принимавших это ничтожное с юридической точки зрения решение не озаботился получением согласия русского народа. Социалистический интернационализм был выше “юридического формализма” и не нуждался в чьей-либо санкции» (с. 259).
Международные правовые акты второй половины XX в., доказывает Б.С. Эбзеев, говоря о принципе равноправия и самоопределения народов, имели в виду не расчленение суверенных государств, а образование государств народами, находящихся под колониальным господством и иностранной оккупацией. Принцип равноправия и самоопределения – не политическая абстракция, которая может быть использована в целях политической пропаганды, а норма Конституции РФ, выражающая требование единого мирного правопорядка, который ни при каких условиях не может быть поставлен под угрозу. Конечный тезис автор формулирует так: носителем принципа самоопределения является государство, так как оно воплощает право народа на государственное бытие, а право народа на самоопределение в смысле выхода из суверенного государства не имеет оснований (с. 269, 270).
* * *
В книге Б.С. Эбзеева обсуждаются многие другие проблемы науки конституционного права и конституционного строительства России. В краткой рецензии всего не перечислишь. У автора есть способность, не часто встречающаяся у обществоведов: умение просто, доходчиво, логично, убедительно изложить существо сложных теоретических вопросов. Широчайшая эрудиция и высокий профессионализм делают работы Б.С. Эбзеева интересными не только для специалистов, но и для всех, кто интересуется историей России, ее государственностью и политической культурой.
References
- 1. Ebzeev B.S. The Philosophy of Russian constitutionalism: essays. M., 2023. P. 11, 12, 221, 222, 228, 255, 256, 259, 269, 270, 274, 275 (in Russ.).